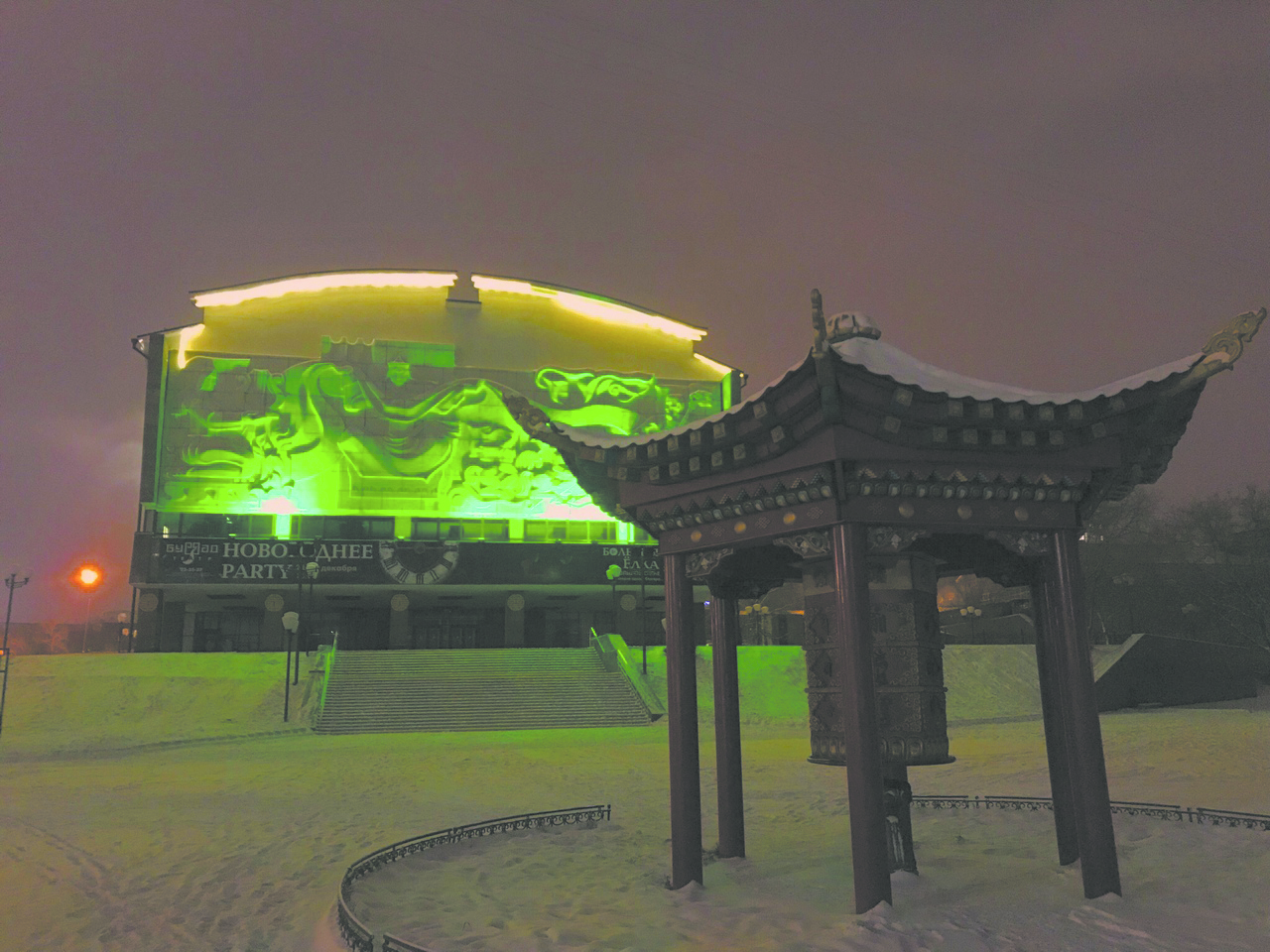Театр бурятской драмы показал результат еще одной творческой лаборатории прошедшего сезона, на которой несколько молодых приезжих режиссеров делали эскизы по бурятскому эпосу об Аламжи Мэргэне и его сестре Агуй Гохон.
Для полноценного сценического воплощения выбрали эскиз режиссера Артема Устинова, который убежден, что «… такого подхода к материалу еще не было. Артисты еще не существовали в таком жанре». И, чтоб мы знали, поучает - «Эпос – это не комедия и не трагедия, а род литературы. Когда все быстро меняется, когда очень смешное и страшное все соединено в одно». Читаешь такие откровения и озадачиваешься – как это мы, буряты, сумели так сконцентрироваться, так поднатужиться, так поднапрячься, да и создать себя, бурятов, и артистов создать, и эпос, и театральное помещение, чтобы такой первопроходец хотя бы не на совсем голое место пришел! Чтобы ему хотя бы не пришлось объяснять нам, что такое литература!
«О, сколько их упало в эту бездну», сколько пришельцев, и честолюбивых, и искренних подвижников, упало бездну бурятского национального бессознательного, которое бурятский театр осмыслить и преобразовать в театральные знаки пытается-пытается, но что-то все время идет не так. И в очередной раз смотришь на новый спектакль и озадачиваешься – а это профессиональные артисты? Это профессиональные постановщики? Профессиональный театр? И это про нас, про бурят? Это вообще про людей?
Невозможно представить, чтобы, например, институт языкознания вдруг решил работать, как центр развития театра, правда? А вот бурдрама уже несколько лет позиционирует себя, как центр сохранения и развития бурятского языка, утверждая, что именно язык основа национальной культуры. Да, это бесспорно так. Но уберите из спектакля «Аламжи» бурятский язык, и никто никогда не догадается, что это постановка про бурят. И даже если надеть на персонажей бурятские костюмы, и чтобы они на каждом шагу пели бурятские песни и танцевали бурятские танцы – это будет очередной нарядный спектакль про наши нарядные «мифы» о самих себе, но не про национальную сущность. Но театр, как уже неоднократно замечалось, штука хитрая, и тут дело в том, что даже если спектакль пуст, бессмысленен, и вообще не про нас, он все равно про нас. «Аламжи» - спектакль про то, как театр бурятской драмы стал пространством литературно-музыкальных композиций и утратил практически все профессиональные стандарты создания профессионального театрального произведения.
«Аламжи» поразительно, до растерянного «так не бывает!», схож с недавней премьерой балета «Сон в летнюю ночь» в театре оперы и балета. Также как и спектакль оперного, этот - пересказ краткого пересказа эпоса. Также всё максимально упрощено и опрощено, также всё квадратно, плоско-горизонтально, линейно-пластмассово. То же странное восприятие магических, пра-материнских сил Природы. По сцене оперного бродили некие плюшевые йети, пошитые из множества зверюшек, собранных со всего города, а здесь героиня Агуй Гохон становится Изюбрихой в виде… большого плюшевого «сугроба» с обширным «шлейфом», который блестя полиэстеровым блеском синтетического меха медленно семенил по авансцене. Также пространство спектакля выглядит детской комнатой, только в оперном аккуратненькая детская милых девочек, а в бурдраме комната дерзкого мальчика, раскидавшего все «игрушки» - ни одна идея, мысль в этой постановке не развернута, не развита, брошена, ни один образ не разработан, не собран, а многие и вовсе поломаны. И только по замкнутому кругу игрушечной «железной дороги» туда-сюда ездит-ездит игрушечный «поезд» фабулы. Были брат и сестра Аламжи и Агуй Гохон, сироты и, единственная друг другу, поддержка и опора. Мальчик подрос и его дяди решив от него избавиться, сначала послали его биться с мангадхаем, в надежде, что парень погибнет, когда же этого не случилось, просто отравили его. И тогда в «бой» пошла сестра – приняв мужской облик отправилась искать девушку-чародейку, способную оживить Аламжи. Нашла, и, будучи как бы в образе Аламжи, посваталась, привезла к телу умершего брата, девушка поколдовала, брат ожил. Сестра превратилась в изюбриху. В финале Аламжи наказывает дядей, и остается жить с молодой женой. Постановка Артема Устинова даже не про то «когда очень смешное и страшное все соединено в одно» - как режиссер понимает эпос, - а про последовательное прикрепление блоков «конструктора».
Эпос, конечно, космогония национального, и, конечно, в нем ключи к пониманию всего национального в нас – природы, ментальности, идентичности. И хотя эпос повествовательное произведение, но и ключи к сценической драме в нем есть, во всяком случае, в эпосе об Аламжи и Агуй Гохон. Есть острый, смертельный конфликт между дядями и Аламжи; есть подвиг – битва и победа Аламжи над мангадхаем; катастрофа – смерть Аламжи; есть подвиг Агуй Гохон и катарсис – ее уход. Но это драматическое, что есть в недраматическом тексте, вообще не перекочевало в спектакль, в котором нет ни одного события. Номинально, по ходу движения фабулы события есть, но ни одно из них не решено, не поставлено. Мы не понимаем, что победа Аламжи, это подвиг. Что подвиг, это переход через рубеж, что нежный мальчик-сирота, который говорит, что у него и костей-то нет еще, одни хрящики, преодолел себя и стал Мужчиной. Мы не понимаем, что его смерть, это катастрофа! Что с его смертью пресекается жизнь Рода, а значит, самое Жизнь. Мы не понимаем, что когда Агуй Гохон «переодевается» в Аламжи, она уже перестала быть, и ее воплощение в изюбриху не уход, а воплощение уже давно совершившегося перехода в силы, творящие Мир, мироздание. И мы не понимаем тайного смысла этого «переодевания» в Аламжи, когда сестра дает брату продолжать жить и действовать! Да в этом эпическом тексте есть столько тем, из которых можно извлечь тот замысел, что непременно отзовется в бурятской душе. Например, эта удивительная близость между братьями и сестрами, или уже непонятная нам с точки зрения родственности, рода, жестокость дядей к племяннику, или странствия героини, как тема жизненного Пути, предназначения...
Но также, как и в балете «Сон в летнюю ночь» (а Шекспир, между прочим, своего рода создатель эпоса англичан), содержание нашего эпоса окукливается и становится лишь поводом для напыщенной самодемонстрации, но на самом деле демонстрации профессиональной несостоятельности. Всё, буквально всё, в этом спектакле надуманно, но это надуманное элементарно недодумано, и недоделано!
Историю по замыслу режиссера рассказывают какие-то ремесленники (видимо, изгнанные из «Сна в летнюю ночь»), поэтому актеры в робах, касках, шлемах сварщиков, с пилами, молотками, рубанками, гвоздями, стоят за верстаками и другими рабочими поверхностями, и творят. Мир. Вдохновенное, поэтичнейшее описание прекрасного мира, в который пришли Аламжи и его сестра – сколько в этом тексте нашего неба, наших просторов, нашего прозрачного воздуха. Сколько восхищенной благодарности за дарованную нам природу, сколько любви к ней, благоговейной бережности, понимания ее ценности. И сколько свободы и вольного дыхания! Но режиссер Артем Устинов и художник Ася Бубнова не видят эту нашу красоту, ее округлость, протяженность и незамкнутость этих наших бесконечных линий, этого удивительного многообразия света. Для них бурятский мир, это замкнутое, стесненное, тесное, безвоздушное, плоское, горизонтальное, приземистое, квадратное, угловатое, техногенное, наполненное лязгами, стуками, скрипами, гулом, красно-черное. Гибкая бурятская ментальность сразу соглашается, что, как минимум, это мир Дарханов. Видимо, такая мысль мелькнула в головах постановщиков. Но не развилась. Потому, что по содержательности, это, конечно, не небесные кУзницы, а какое-то межрайонное МТС или РСУ – так бытово существуют актеры! Они не воплощают благородное сословие потомственных мастеров своего дела – они не персонифицированы. И не играют актеров, играющих мастеров – для этого у них нет красок и приемов. И уж, конечно, они не персонажи эпоса - в них нет ни объема, ни гиперболизации, ни остранения. Нет, это Дарима Сангажапова, Людмила Дугарова, Баярто Ендонов, Надежда Мунконова, и другие. Несмотря на то, что над спектаклем работала и хореограф (Анастасия Кадрулева) тела и жесты актеров не организованы пластическим замыслом, образным строем, сценической эстетикой. Это бытовые тела и бытовые жесты обычных людей - не крупные, не широкие, не внятные, обычные бытовые взмахи рук, обычные, часто суетливые передвижения. Пластика, которой немало в этом спектакле, как ни странно это звучит - не пластична. Это набор движений, но не пластическая образная мыслеформа, рожденная специально для этого спектакля, для этих визуальных образов. А эти образы, конечно, задает художник, которая, повторим, одела артистов в рабочие комбинезоны, рабочие блузы, футболки, грубые ботинки. Но это просто одежда, а никак не сценический костюм, потому, что она безОбразна! В том, во что одет актер на сцене должна быть пластика, живопись, динамика, это создается работой объемов, линий, фактур, красок, а когда этого нет, то костюм остается просто материализованным эскизом – таким же плоским. Конечно, из плоского может родится только плоская пластика, не театральная, и вообще не бурятская. Но, собственно, ничто на сцене не создает визуальных образов, потому что их нет в замысле. И речь не о персонификации, а об образном строе спектакля, о системе образов, о стиле. Но, кажется, этими профессиональными понятиями давно уже перестали руководствоваться в бурдраме.
Вообще, это какой-то обескураживающе плоский, одновременно и пустой, и плотный, как пенопласт, лобовой спектакль, с минимальным использованием возможностей, которыми обладает професссиональный театр. Свет, как художественное средство, как средство выразительности, просто от-сут-ству-ет! Работает только как подсветка. Режиссер, он же «художник по свету», конечно, же не владеет этой театральной профессией, но дело в том, что, кажется, и не мыслит пластичными и динамичными формами, и не подозревает, как талантливый и грамотный свет создает смысловое пространство спектакля. В «Аламжи» актеры все время играют либо на авансцене, либо на средней линии сцены, где уже полумрак, и даже висящие над ними шесть небольших светильников банальной конической формы, разумеется, красного цвета - это просто висящие светильники. Они могли бы быть также источниками сценического света, но они даже сами как-то особенно художественно не подсвечены, просто висят не обремененные никакой смысловой нагрузкой. То есть, получается, что театр не умеет, или не хочет, воплощать содержание спектакля всем тем, чем мог бы.
Не обременены смысловой содержательностью и исполнители главных ролей Солбон Ендонов и Ада Ошорова. Это удивительно, но актеры не умеют ни воплощаться в своих героев, ни остраняться. Не умеют в них верить, создавать им пространство в себе и вокруг себя, не умеют создавать изменения, происходящие с героями, и изменения, которые происходят с ними, с актерами. Не умеют работать своим речевым аппаратом – от скудости и плоскости их интонаций, тембров, и эмоций, которые они вкладывают в свои реплики, просто столбенеешь. Даже партнерствовать не умеют. Так, например, Артем Устинов особенную родственность между Аламжи и его сестрой, поставил как падения не глядя в руки партнера. Такой тест на доверие. Но актеры не доверяют друг другу и падать бояться. И, конечно, нет ни образа, ни сценической правды, а есть актеры Ендонов и Ошорова, которые просто используют свои 2-3 штампа.
Вообще, все актеры пустые, все не в присутствии, и все используют штампы и, конечно, не хочется разочаровывать режиссера, но никакой новой задачи он актерам не поставил, и так, как в это спектакле, актеры работают всегда – послушно-равнодушно, по накатанной. Даже с «куклами» - плоскими деревянными или картонными фигурками на шарнирах, которые, наверное, для эпичной многозначительности, режиссер использует, актеры не научились работать, пусть не талантливо, но хотя бы грамотно – в момент отождествиться, и в момент растождествиться.
Наконец, то, что в бурдраме эпично назвали «саунд-дизайном»... Это просто символ всего спектакля в целом. В этом звуковом «колхозе», который театр позволил себе обрушить на зрителя, ничто по-настоящему профессионально не сведено, не сбалансировано, ничто не резонирует, всё бешено долбит и ездит по ушам и по мозгу. Инструментальные соло не мастерские, а просто проигрывание нот, и всё используется прямолинейно-иллюстративно в лоб, но абсолютно мимо смыслов и мимо природы национальной образности. Ведь, например, что такое лимба для нас? Это душа бурята… Голос лимбы негромкий и затаенный, звучит, как бы про себя, но в то же время он чистый и тонкий. И соло на лимбе, на которой «играет» (фонограмма! Как будто нельзя научиться!) должно было много-много нам сказать об этом герое Аламжи, а миру о бурятах. Но этого не произошло. Потому, что режиссер ничего не понял ни про этого парня, ни про бурят, ни про лимбу. Ну и лимбу «саунд-дизайнер» «перепутал» с фанфарами.
В эпосе мы находим лучшую версию себя. Не идеализацию - это удивительно, но при всех фантастичности и гиперболизации, эпос всегда правдив по сути. Он носитель правды о народе, о его достоинствах и постыдных свойствах, но при этом, всегда живописуя подробности быта, эпос всегда же бытовое и поэтизирует, и всегда выходя в пространство бытия, чуждается всего обычного. И для адекватного сценического воплощения поэзии и поэтики эпоса нужно находить особый способ существования, особый язык – специальную пластику, интонации, грим; особые формы освоения пространства сцены, пространства спектакля. То есть, нужна длительная, тщательная, высоко культурная работа – профессиональная.
Театру бурятской драмы все-таки прежде, чем выносить на суд публики попытки рассмотрения вопросов национальной идентичности, следует разобраться со своей собственной профессиональной идентичностью – они вообще профессиональный театр или большой драмкружок. И речь не о том, что над национальным материалом должны работать свои/не свои. Это глупость. Речь именно о принципах работы. Работаем как профессионалы, или по принципу «и так сойдет»?... И, кстати, этот принцип и есть большо-о-ой вопрос нашей национальной идентичности.
Туяна Будаева