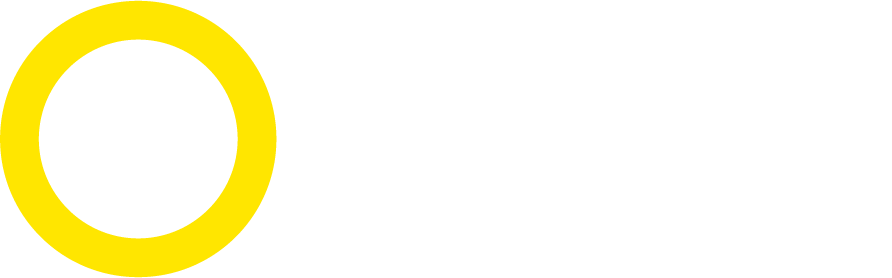И снова моя страна в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне переживает те трагические годы войны и дни Победы, которые достались нам ценой нелегкой. В той войне каждая семья отправляла на фронт своих отцов, братьев, сынов и дочерей. Проклятая война сжирала молодых и старых, и как рады были все, когда пришла долгожданная Победа. Не все вернулись с войны, не все солдатки дождались своих мужей, матери детей. Возвращались единицы. Вот и в наше село Кумора не вернулись Дроздов Михаил, Кондаков Леонид, Карагаев Николай, Семушев Николай, Петров Николай и многие – многие другие. Вечная им память. Вернулись немногие – Мисюркеев Дмитрий, Черных Иван, Карагаев Иннокентий, Петров Яков, Ведерников Марк, Черноусов Федор, вот им и пришлось поднимать колхоз.
Муж моей матери, отец семерых детей Петров Николай Федосеевич пропал без вести в 1942 году. В тяжелые годы войны моя мать, как и другие солдатки, пахала, сеяла, растила скот и сохраняла своих детей. в 30 лет оставшись без мужа, она пережила все тяготы войны. Стараясь облегчить ее жизнь, сестра ее мужа уговорила отдать ей на воспитание среднюю дочь Марию. Уговорили, но вечером она вернулась после работы домой, потеряв любимицу, выпросила у председателя коня и в ночь выехала в поселок Нижнеангарск за 170 км, куда увезли ее дочь. Она вернула ее. Как выжила моя мать всю войну с детьми от 1 года до 10 лет, трудно объяснить. С раннего утра она уезжала за дровами, за сеном, а вернувшись, усталая и обледеневшая, думала, что будут есть дети на другой день.
Расплачивался колхоз за труд трудоднями, которые отоваривались глубокой осенью. Мать спасала машинка «Зингер». Она чинила женщинам нехитрые платья, одеяла и даже тапочки. Бралась за все, что давало кусок хлеба. После войны маме повезло. Приехавший ее сватать для друга израненный фронтовик, офицер, мой отец Черноусов Василий Александрович стал мужем моей матери, хотя в деревне были молодые вдовы, без «прицепа» (так говорили о вдовах с детьми). Мы, дети тех солдат, которым улыбнулась удача. Они вернулись живыми и стали отцами для многих детей в поселке. Мы родились в победные послевоенные годы 1945 – 1949 в годы любви, весны и Победы.
Вернувшиеся с фронта мужики не могли закрыть все бреши в сельском хозяйстве, но постепенно жизнь в селе налаживалась. Ставили упавшие заборы, распахивали поля и охотились. На всю зиму почти все мужики уходили в тайгу за пушным золотом (соболь, белка и другие).
День Победы встречали всем селом. Мой отец с матерью, прихватив гармошку, уходили на праздник. Встречались все в сельском клубе, где пели песни. Помню, как отец пел «Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто замерзал на снегу» и его дружно поддерживали фронтовики и женщины.
Я часто вспоминаю свое село, окруженное засеянными полями пшеницей, овсом. Осенью мы помогали колхозу убирать зерно и картошку. Это все упало на мое поколение. Сейчас село разрушено. Приложили к этому руку руководители района в перестроечные годы, и никто не ответил за урон людям, проживающим в поселок Кумора. Были варварски уничтожены две фермы. Скот забивали по указанию районных властей. Не стало транспорта. И в настоящее время те бедные селяне, которые проживают в селе, вынуждены выезжать до ближайшего Уояна на коммерческом транспорте, а вернее на попутках за 3-4 тысячи рублей. А проехать надо 60 км до ближайшей железнодорожной станции Уоян.
А ведь раньше дети из этого поселка учились в нашей Верхне – Ангарской средней школе. Их вывозили на конях или речном транспорте в нашу школу. Со мной вместе учились две Агдыреевы Вали и один Виктор. Они не были родственниками, фамилия была распространенная. У нас была не только школа, но и больница, детский сад и общественная баня, почта. Во всех домах было радио, которым ведал Дамбинов Женя. Он и организовывал связь с внешним миром. Радио было лучом в нашем селе. Моя мать и все женщины постоянно слушали радиопостановки, песни и все новости.
Колхоз для нас, малолеток, организовал детский сад. Заведующей была моя мама, воспитательницей Сенгеева Евдокия, а поварихой Иванова Татьяна. Каждое утро она уезжала за молоком на ферму, мы ждали ее и пели песню (Татьяна Иваниха колхозная повариха несет нам молоко). Наверное, детсад и спас наше детство. В детстве мы были обеспечены полностью продуктами. У нас у всех были красивые деревянные расписные (Хохломой) чашки под первое, второе и компот. Я не знаю, откуда их завез колхоз, а также куда они исчезли после закрытия детсада.
А потом к нам пришла учительница Анна Ивановна Карагаева, которая записывала выпускников в первый класс.
Только по ее настоянию и моему желанию я была записана в первый класс, хотя мне не было семи лет. Также в первый класс были записаны Валя Черных и Маша Старкова. Они были самыми маленькими в первом классе. Любой учитель в то время был непререкаемым авторитетом не только для нас, но и наши родители уважительно относились к учителям. И приход их в любую семью считался почетным для хозяйки. Учителя нас любили, а мы их. они оставались к нами после занятий. Помощь их в дополнительных уроках была неоценима. Они не только учили нас читать и писать, но и развиваться нравственно и физически и любить Родину. Мы все пели песню «Раньше думай о родине, а потом о себе». Мы были пионерами, тимуровцами, комсомольцами и оказывали помощь старшим. Я умела читать и писать в пять лет и была записана в библиотеку. С Анной Ивановной, моей первой учительницей, было как-то легко и весело. В нашем маленьком доме, где было четверо учеников, по вечерам было тесно, так как каждому из нас заходили друзья и подружки, и даже засыпая, я слышала, как старшие решают задачи и учат стихи. Читать в поселке любили и взрослые и дети. Библиотекарь обычно приходила в семьи напоминала о книгах, если они долго читались или предлагала принесенные ею. Библиотекарь Иванова Александра проработала в этой должности до глубокой старости.
Учились мы охотно, и школа нам была вторым домом. Когда я закончила первый класс с одной четверкой и моя мама спросила, почему не все пятерки, я ответила, что на всех пятерок не хватило.
Почти все жители нашего поселка держали коров, и каждый вечер в летнее время мы выходили к лесхозу их встречать. Пастухом была Маруся Козак, которая постоянно носила брюки и сапоги и была пострижена под мужчину. Все это нам было в новинку. Она лихо щелкала кнутом, сгоняя коров домой. Честно сказать, молоко было почти в каждом доме, но не в изобилии. Не хватало хлеба. Зерно, которое мололи мы сами, не всегда было в достатке. Наши родители получали его на трудодни, а трудодни подсчитывались осенью.
Я помню жаркие колхозные собрания по их распределению. Хотя мы были маленькие, но знали, что достаток зависит от него. Я всегда думала, что хотя глава государства Хрущев Н.С. и имел какие-то недостатки управления страной, но он принял правильное решение о замене трудодней рублем, то было большим подарком для сельчан.
Мы, школьники, никогда не оставались в стороне во время сева и уборки урожая. Мы помогали в уборке картофеля, сена, а колхоз выделял школе деньги на питание и оборудование, и когда мы, выпускники детсада, пришли в первый класс в одинаковых ботинках, мы знали, что их приобрел для нас колхоз.
Наше село с двух сторон окружено тайгой, а с другой водою. Мы с детства любили кататься на озерах зимой на коньках и лыжах, летом на лодках. Красное лето было раздольным для нас. Мы ходили за грибами, ягодами, собирали для лесхоза шишки, рыбачили на удочку и купались до одурения в логах и речке Харчевке. Это хитрая небольшая речка разливалась весной, заполняя все луга и покосы, и только осенью, войдя в свои берега, давала возможность косить сено для скота.
В логах мы, купаясь, чуть не потеряли свою одноклассницу Ольгу Бураеву.
Она была дочерью директора школы Николая Владимировича, который со своей женой и детьми приехал к нам в село где-то в 1958 году. Его жена Елена Павловна работала учителем младших классов. Фронтовик Николай Владимирович после войны приехал к нам не сразу. Ольга училась с нами, ничем не выделялась, разве чуть была опрятнее и форма у нее была всегда отглаженная. Жили они недалеко от школы. Изредка она прибегала к нам. Никто не знал, что она не умеет плавать. Поэтому, попав в воду, она смело оттолкнулась от берега и начала тонуть. Мы не бросили ее в беде, стали спасать. В спасении участвовали все, Семушева Галя, Тулбуконова Тося, Валя и Галя Карагаевы. Несмотря на ее сопротивление, мы дождались, когда она обессилит, вытащили ее на берег и откачали. Больше никогда я ее не видела купающейся. После окончания школы она поступила в пединститут и до самой пенсии работала в школе в поселке Аэропорт Улан-Удэ математиком.
В каждой семье Куморы во время нашего детства были мои ровесники. Нас так и называли «послевоенное производство». Кандакова, Карагаева, Дроздова, Муручева не только были сверстниками, но и верными товарищами. Все вместе мы ходили в лес за грибами, рыбачили, собирали грибы, которые сдавали в магазин потребкооперации и получали деньги, что было огромным подспорьем для нас.
Вечерами ходили в кино, а потом обсуждали до хрипоты героев фильма. Ребята с 11 лет ондатровали, зачастую пропускали уроки, а когда прилетали утки, они почти все были на перелете птиц. В 12-13 лет у многих ребят было уже свое оружие. Красивая гора Шаман венчала наше село и если она окутывалась туманом, мы знали, скоро будет дождь.
Яркие звезды провожали нас из школы домой. Стихи А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова не были для нас чем-то далекими. они были явью, родными и близкими. Ведь у нас и Луна «сквозь тучи мрачные глядела» и зимние катания в салазках близки и памятны.
Мы много читали. Нам знакомо и девочка из «Подземелья», которую описал Короленко, и слепой музыкант, и некрасовские женщины, которые выстояли войну, сохранили колхоз от разорения.
Во время войны к нам были переселены немцы, татары, поляки. Семейства томсон, Шмальц, Сагдиевы, Чумарины не чувствовали себя чужаками, в подростки по вечерам, также как все бегали в кино и на танцы, играли в лапту, городки, футбол.
Да и какая могла быть вражда между ними, если все они работали не покладая рук каждый день.
Интерес ребят не был ограничен только этими играми. помню, как мой брат Виктор и его друг Дроздов Володя строили ракеты, а затем на картофельном поле запускали. мы с подружкой Полиной, сестрой Володи, ползали вслед за ними по картошке и ждали чуда, и ракеты взлетали.
Мы много читали, спорили о прочитанном. Мы также владели книгой, как сейчас ученики владеют телефоном. Чтение поощрялось и нашими родителями. Отец тоже много читал. А мама, несмотря на стеснение в средствах, смогла однажды выписать журнал «Огонек». Газеты в то время выписывались в каждом доме, а журналы были дорогим удовольствием. Когда в журнале стали печатать роман «Поднятая целина», то вечерами у нас устраивались соседи и родственники, и кто-то громко из нас читал. Послушать каждый вечер приходил наш дядя Иннокентий Никифорович. Ему посчастливилось. Он вернулся с фронта живым, но с больным сердцем.
Изредка приходила Мария Александровна Синявская. Она была ссыльной и сторонницей Троцкого Л. Ненавидела Ленина В.И. и высказывала это вслух. Проживала в маленькой домике на берегу лога. Не могу сказать, почему она не уезжала. Часто с ее приходом обсуждение прочитанного превращалось в спор. Она откровенно критиковала позицию Ленина, чего мы, пионеры, не могли допустить и яростно отстаивали его правду, считали, что она возводит поклеп на нашего дорогого Ильича. Она не всегда выдерживала наши атаки и шумно удалялась, встряхнув свои многочисленные юбки. Престарелую Марию Александровну, как я узнала позднее, забрала ее дочь, приехавшая из Ленинграда. А домик ее пережил еще несколько владельцев. Мы как тимуровцы, несмотря на наши с ней разногласия, помогали ей до самого отъезда. она курила, пила черный китайский чай, и я часто бегала для нее в магазин, получая серебристые фантики от чая в подарок. А жаль. Что ушло время и такие люди.
Примерно в те же годы к нам был направлен участковый Аргасанов Михаил Аргасанович. Его сын Алик влился в наш класс. Белобрысый Алик, сын бурята и белокурой красавицы матери Лиды, был не занозистым парнем. Учился хорошо. Окончил артиллерийское училище офицером, но во время Чехословацкого мятежа отказался участвовать в подавлении, и за что и поплатился безвременной отставкой. Поступил в Ленинграде на юридический факультет, но дальнейшая его судьба мне неизвестна.
Наш участковый был непьющим человеком. Его побаивались все хулиганы поселка. Он поддерживал порядок, а провинившихся задерживал, отправляя на отсидку в «кутузку», как называли посещение для задержанных. Зная о войне не понаслышке, он старался не причинять боль матерям провинившихся. Более того, беседа с ним была для виновных более действенна, чем направления в п. Нижнеангарск, где было отделение милиции. Это был тот самый Анискин, только Куморский.
В детстве мы с волнением ждали, когда вскроется река Ангара и Харчевка. Тогда к нам приходили баржи с грузами продуктов, вещей и даже мебели. Пассажиров зимой и летом возил на АН-2 пилот Женя Бельков. Стар и млад звали его просто Женяя. С его же самолета сбрасывали нам листовки с призывами беречь лес от пожара. Каждый дом знал, что он должен тушить пожар и, честно сказать, в нашем поселке не было ни одного пожара. Женя летал без аварий. Не лихачил. Бывало, что непогода не пускала к полету самолет по неделям и селяне ждали погоды и Женю. Все верили, что вывезет всех желающих.
Надо сказать, что наш поселок дал для страны не одного летчика. В послевоенные годы начал летать наш земляк Шишмарев Понтий Николаевич. Отлетав положенное на Севере, он возглавлял наземную службу в одном из аэропортов страны. Закончил летное училище Сенгеев Владимир, Смышляев Юрий. А наш класс мог гордиться Анатолием Черных, одним зи первых летчиков, родившихся в с. Кумора. лфицер Соловьев Валерий прославил наш поселок как офицер подводник. Сельский Владислав окончил Иркутский университет и работал геологом.
Мои двоюродные сестры Галя и Валя Карагаевы, Лида Августаева, Галя Устьянцева, педагоги с высшим образованием. Валя Черных, Маня Старкова, Сенгеева Люда, Аксютова Аля, Семушев Марк получили среднеспециальное образование. Выпускники нашей школы разбросаны по всему бывшему Советскому Союзу. Мы были дружны и жаль, что многие шули безвременно. Сказалось наше послевоенное детство. Одежонка была неважная, а особенно была плохая обувка. Отсюда и болячки. Тогда мы не думали о здоровье, перед нами были открыты все пути.
Помню, как в 7 классе вопреки запрету учителя мы всем классом ушли через тайгу к горячим ключам. Ведущим у нас был наш председатель Совета отряда Бельский Влад. Шли ранней весной, кругом лежал еще снег, но набухшие почки деревьев говорили о скором тепле. О вылазке узнали в нашей школе и быть бы беде, но мать Владика была местным фельдшером, которая была непререкаемым авторитетом.
Долгое время Любовь Сафроновна Бельская вела нашу «медицину» в поселке. К ней обращались в первую очередь больные и, как правило, она вела прием пациентов, определяя степень заболевания. Она лечила наши желудки, зубы, ссадины и раны довольны небезуспешно. после закрытия больницы уехала в п. Уоян. Владик был нашим командиром не только в школе. Он часто организовывал вылазки в лес. Там, облюбовав хорошенькую опушку, мы организовывали тайное (для других классов) общество «ВПС» (веселая полянка семиклассников) и потом часто ходили туда, чтобы послушать кукушку или просто побыть в тайге для души.
В 7 классе по зову сердца мы организовали бригаду по выращиванию кукурузы. Был в ней две сестры Карагаевы Галя и Валя, я, Кондакова Лида и Тулбуконова Тоня. Участок был около озера. Мы уходили на прополку в 5 часов утра, в 11 часов был перерыв до 3 часов. Во вреям перерыва мы купались в озере.
Трудно забыть наших учителей, которые полностью растворялись в своей работе с нами. Разве можно забыть физрука Александрова Петра Ильича. Маленький, сухонький, он был непререкаемым авторитетом для нас. Он ставил нас на лыжи, учил играть в волейбол и футбол. Кроме уроков по физкультуре, он работал с нами и после. Лыжами зимой увлекались все. мы не только учились ходить и бегать на лыжах, но мы почти все в 40-градусные морозы прыгали с трамплинов, съезжали с гор, благо снега и мороза у нас хватало. Каждое утро в школе перед началом занятий мы, все ученики, занимались физкультурой под его началом.
Учились мы охотно. Особенно потянуло нас в школу, когда приехали молодые учителя, они отдавали нам свои знания, все свое время возились с нами, учили нас домоводству, шитью, петь торты и булочки.
Постарше мы стали ходить на вечера, которые проводились в интернате. Галина Ивановна Малыгина, преподаватель немецкого языка, заставила полюбить нас немецкий язык. Мы пели немецкие песни про елочку, марш немецких коммунистов и даже ставили постановку про Красную шапочку, где я играла серого волка. С собой она привезла репродукции картин передвижников, открытки, и мы часто собирались у нее, обсуждая картины, а потом делали обзор на вечерах.
Задорная и всегда веселая химичка Мария Даниловна Капустина учила нас танцевать молдаванеску и вместе с Луизой Леонтьевной Деревянко и Галиной Ивановной печь торты. Мы освоили торт «Наполеон» и угощали на праздниках родителей. Одновременно с ними к нам приехали супруги Пушновы. Красивый статный Геннадий Иванович и его златовласая супруга Мария Сафроновна, похожая на Золушку с бала, преподавали нам русский язык, историю и астрономию. Это была красивая пара. Он часто играл на наших вечерах на мандолине.
Вернувшись в Улан-Удэ, Мария Сафроновна долгое время была директором школы в Сосновом бору. В настоящее время она на пенсии.
Петр Афанасьевич Суханов, высокий, рыжеволосый блондин, преподавал у нас математику и, как ни странно, он заставил нас ее полюбить. Может, не случайно две лучшие ученицы Бураева Ольга и Галя Устьянцева освоили эти сложные науки и стали учителями математики. Да простят меня те учителя, которых я не вспомнила.
Многие мои сверстники не покинули после окончания учебных заведений поселок Кумору. В нашей школе преподавала математику Галя Устьянцева, ее муж одноклассник Георгий был механиком в совхозе. Аптекарем работала Валя Черных, продавцом Старкова Марья.
Мы все в преклонных годах и очень жаль, что Кумору покидают последние жители из –за невозможности проживания и отсутствия связи с внешним миром (нет транспорта).
Я боюсь, что жителей Куморы просто скоро забудут, как забыли сам поселок и руководители Северобайкальского района.
Моя маленькая Кумора пережила царя, революцию, выстояла Великую Отечественную войну, пережила перестройку, но неужели в мирное время правительство Бурятии оставит ее умирать. Основана Кумора была в 1847 году. Так неужели в 2047 году ее некому будет вспомнить. Я не могу понять, кому в Бурятии нужен такой разор. Верю, Кумора возродится. Ведь после нас останутся наши дети и внуки.
Автор: Надежда Кулипанова